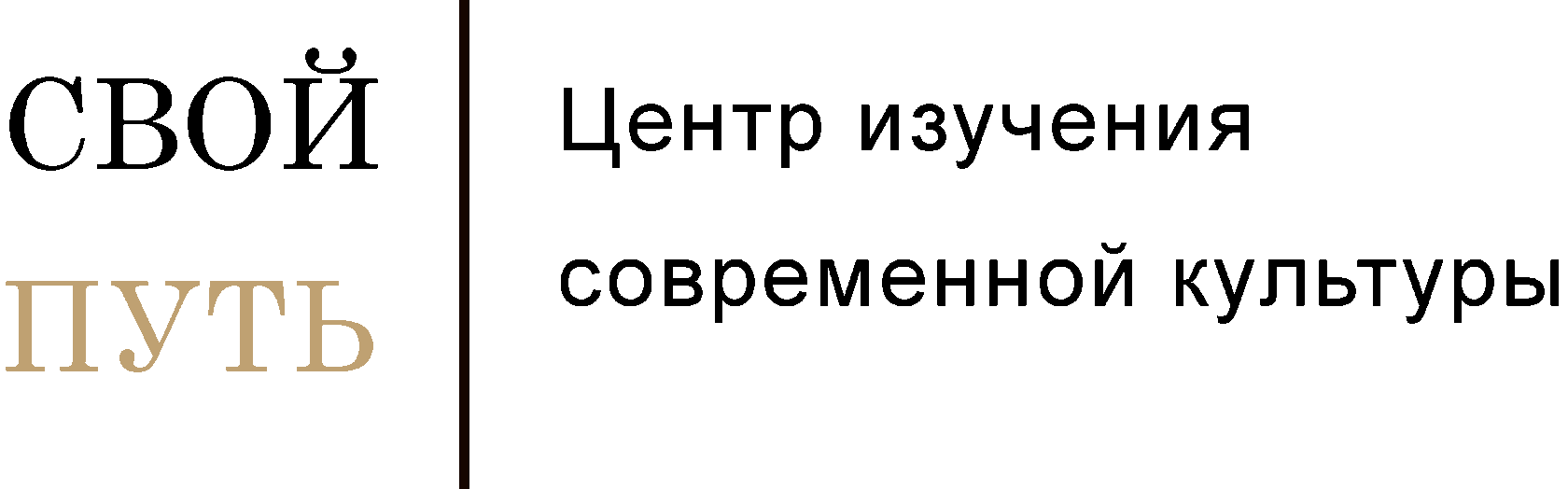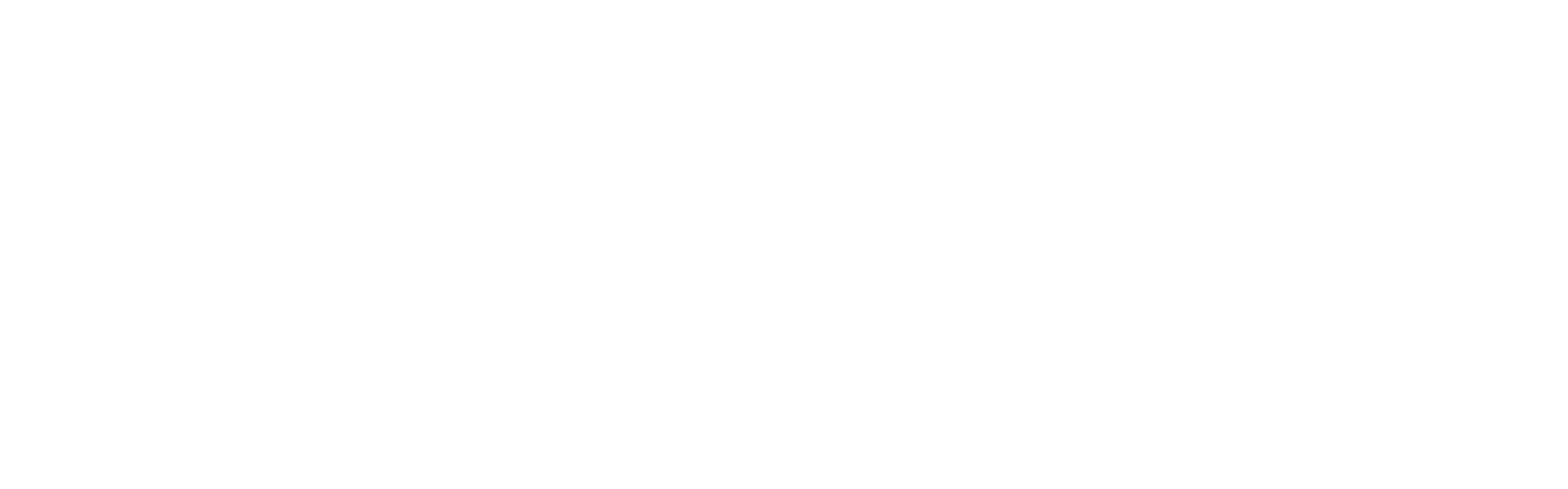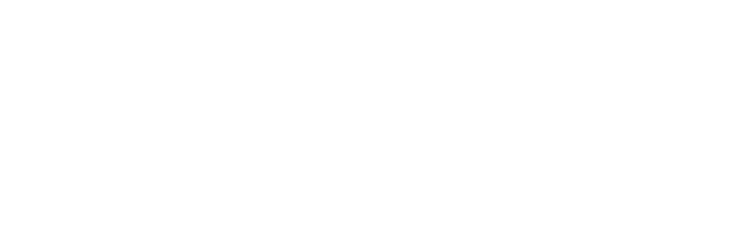
Информация о наборе в группу
Расписании мероприятий
Исследованиях
Расписании мероприятий
Исследованиях
Оставьте Ваш вопрос, мы ответим Вам в ближайшее время.
Что есть не искусство?
"НАШ АВАНГАРД" в Русском музее
"НАШ АВАНГАРД" в Русском музее
«Наш авангард» - выставка-пунктир в Русском музее (ГРМ), яркая и содержательная: о переломе в искусстве начала ХХ в. и его художниках-экспериментаторах. Наш авангард не просто «наш», как Крым. Это уникальное явление мировой культуры, полное парадоксов и не всегда понятное даже специалистам.
Авангард – не монолит, но совокупность разных течений от фигуративного примитива до цветной геометрии, экспрессионизма и полной беспредметности. Обыватели от него шарахаются с отговоркой «не мое», знатоки с интересом разглядывают заумь Филонова, пробегая мимо пестрых павлинов Гончаровой и импрессионистичных рыб Ларионова. Реакции на авангард по сей день противоречивы, но в целом это искусство мало радует наше чувство жизни, скорее, будоражит и интригует.
Авангард – не монолит, но совокупность разных течений от фигуративного примитива до цветной геометрии, экспрессионизма и полной беспредметности. Обыватели от него шарахаются с отговоркой «не мое», знатоки с интересом разглядывают заумь Филонова, пробегая мимо пестрых павлинов Гончаровой и импрессионистичных рыб Ларионова. Реакции на авангард по сей день противоречивы, но в целом это искусство мало радует наше чувство жизни, скорее, будоражит и интригует.

Оформление входа на выставку в корпусе Бенуа. Государственный Русский музей.
Мое отношение к авангарду амбивалентно. Принимаю с сочувствием. Вижу в нем бунт пчел против меда, попытку строить искусство «из ничего». Временами удачную. Но эстетики здесь мало. При этом художественной ценности достаточно, чтобы считать авангард искусством и вообще чем-то большим, чем занятный визуальный опыт. Поэтому постараюсь здесь сплавить в единое впечатление мое отношение к этому искусству и реакцию на выставку в Русском музее, намечу основные линии напряжения.
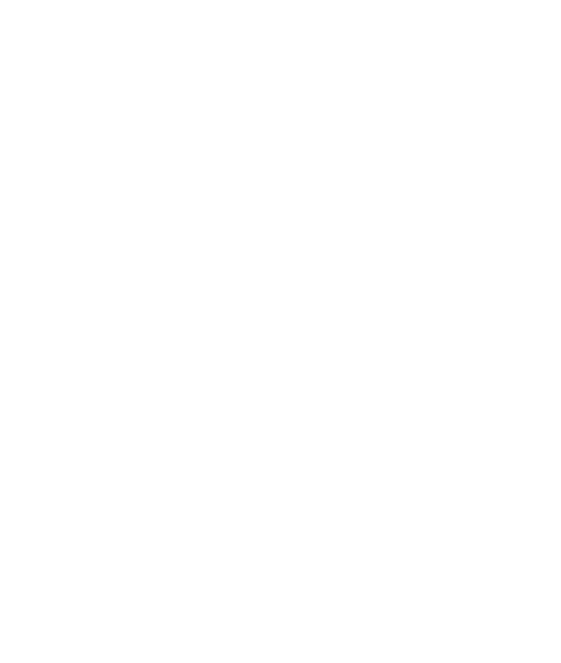
К. Малевич. Портрет Н.Н. Пунина.
В свое время авангард подавался как провокация поиска пути, формула, рецепт новой жизни через разрыв с прошлым. Это искусство создавали идеалисты-пассионарии, мечтавшие о прекрасном будущем, о свободе творчества. Они торопили события, вызывая негодование обывателей и поощрение у искусствоведов-прозелитов, одним из которых был замечательный ученый и знаток искусства Н.Н. Пунин (1888-1953), комиссар Русского музея (1918-1921) и создатель Отделения новейших течений в нем. Сегодня актуальны иные «новейшие течения» и ими занимается созданный Пуниным отдел ГРМ. Авангард же превратился в миф, по-прежнему сияющий в ореоле инаковости и таинственности. Со второй пол. ХХ столетия авангард – это источник средств художественной выразительности для современного искусства, понять которое без авангарда невозможно.

Аристарх Лентулов. Автопортрет.
Во входном зале – портретная галерея «Действующие лица». Н. Гончарова, А. Лентулов, В. Татлин, К. Малевич, В. Мейерхольд и др. Кто из них, авангардистов, первее и важнее? Ранний авангард многолик, художники объединялись на короткое время для выставок и расходились. После 1914 года авангард – отчаянно трагичный.
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
Прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
В. Маяковский
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
Прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
В. Маяковский

М. Ларионов. Рыбы при заходящем солнце, 1904.
Это очень известная работа Михаила Ларионова, выполненная задолго до проведения выставки "Бубновый валет" и основания им одноименного союза. Это очевидный импрессионизм, от которого автор впоследствии отказался совершенно.
Это очень известная работа Михаила Ларионова, выполненная задолго до проведения выставки "Бубновый валет" и основания им одноименного союза. Это очевидный импрессионизм, от которого автор впоследствии отказался совершенно.
На выставке в залах ГРМ представлены все основные выставочные объединения начала века – от Союза молодежи через примитивизм переходим к «Бубновому валету» Гончаровой и Ларионова, сезаннистам Кончаловскому и Машкову, упираемся в кубистов с футуристами, немножко экспрессионизма от Шагала с его знаменитым «Полетом над городом» (1918) и в конце – П. Филонов и его мрачноватая «аналитическая живопись». Искусство очень разноликое. Как его понять? Родилось оно из символизма с его «исканием легкой красивости» (П. Муратов).

Наталья Гончарова. Подсолнухи, 1908-1909.
А вот простенькие «Подсолнухи» (1908-1909) Гончаровой (перекличка с Ван Гогом) – это уже осознанная архаика, примитивизм. Ее по-детски намалеванные подсолнухи – не оттого, что автор не умеет рисовать. Это художественный прием, намеренно использованный для выполнения новой изобразительной задачи. Художница как бы прячется таким образом от сложной действительности в мир лубка, в пространство сказки.

Наталья Гончарова. Велосипедист, 1913.
Ее же «Велосипедист» (1913) – это уже эксперимент синтеза стилевых направлений. Гончарова уходит от крестьянской темы в городской. Ее «Велосипедист» – это и строгость кубизма, и динамика футуризма. Вообще футуризм с его геометризированными формами – это стиль города. Здесь важно передать ощущение скорости. Фабричные гудки, скрип деталей станка, стук колес, урчание мотора. Детская вера в торжество современности!

Аристарх Лентулов. Церкви. Новый Иерусалим, 1917.
Откуда взялось это напряжение в искусстве и многоголосье бунтарей на пороге ХХ века? Есть мнение, что мир перенапрягся, рассердился на незадачливого человека и захотел простых истин. Идеальное в этом мире стало лишним. Наши писатели Толстой, Гончаров, Чехов обнаружили растерянность и недоверие культурному человеку. В пластических искусствах зрел бунт – упрощение форм, фольклорные мотивы, лубочное буйство цвета на радость неизощренному глазу. Но одни авангардисты – очистители атмосферы, безалаберные и симпатичные. Лентулов, Гончарова, Ларионов, Кончаловский и даже Фальк – это user-friendly версия авангарда. Рядом с ними были и другие – утонченно одичалые и рассерженные, как гениальный Малевич и примкнувший к нему Клюн. Этим хотелось разозлить обывателя и даже обидеть его. Такие две версии художнического ответа на кризис эпохи в рамках одного авангарда. Это я к тому, что авангард совсем неоднороден.
Поиски новой выразительности как задача авангарда – это само по себе было свежо и живо, но вот итоги этих поисков и их художественное достоинство не всегда очевидны. Когда единственной целью живописи декларируется «правда», то проблема формы приобретает поглощающее значение: важно становится не что, а как. То же самое, кстати сказать, происходило в литературе модернизма. Причем ВСЯ «правда» новатору не нужна, довольно и ее части. Смысл изображения у него уходит в форму. Для раннего авангарда характерны поиски новой формы, для позднего – ее разрушение.
Поиски новой выразительности как задача авангарда – это само по себе было свежо и живо, но вот итоги этих поисков и их художественное достоинство не всегда очевидны. Когда единственной целью живописи декларируется «правда», то проблема формы приобретает поглощающее значение: важно становится не что, а как. То же самое, кстати сказать, происходило в литературе модернизма. Причем ВСЯ «правда» новатору не нужна, довольно и ее части. Смысл изображения у него уходит в форму. Для раннего авангарда характерны поиски новой формы, для позднего – ее разрушение.

Давид Бурлюк. Пейзаж с цветочной клумбой, 1906.
Первыми на этот соблазн эксперимента с формой поддались импрессионисты (и Лентулов в их числе): там, где художники чуяли всю природу, они увидели физическое впечатление от нее. Очарование плотного воздуха и окрашенного света – и вот уже форма впервые оттеснила изображение. Изображение – ведь это рассказ, а зачем рассказывать историю, если хочется передать ощущение? Отсюда остался один шаг до беспредметности, до ничем не прикрытой наготы формы-объема, формы-ритма, формы-схемы пространственных отношений (см. геометрические композиции Малевича, Кандинского и др.). Но не так скоро.

Илья Машков. Фрукты на блюде, 1910.
Живопись впечатлений сменила «мертвая натура» Сезанна (см. Машкова, Кончаловского на нашей почве). На этих полотнах все статично, важна предъявленная масса цвета и формы. А это уже прямой путь к кубизму, в котором форма получает самостоятельное значение. Возьмем любой натюрморт старых мастеров – плоды на нем натуральны, вызывают у нас ассоциации с солнцем, садом, птицами. У Сезанна/Машкова плоды на блюде – цветовые пятна. Эти художники решают другую задачу – красочно-композиционную, и форма дает способ ее решения. У голландцев наоборот, живописная форма в картине не исчерпывает ее смысла, за формой ощущается духовный опыт мастера. Авангардист нам предъявляется то, как он видит предмет. Вернее – как умеет или как хочет видеть.

К. Малевич. Композиция с Джокондой (Частичное затмение), 1914.
Итак, авангард – это про торжество и конец формы в живописи, намечающее пути ее превращений в ХХ в. Мотив этих превращений – борьба с академизмом и поиски новых средств выразительности – в итоге оборачивается против самой живописи. Художники выходят из плоскости холста и заменяют краски различными материалами. Взять, например, коллажи с кусками газетной бумаги и обломками дерева, геометрические композиции Татлина, Клюна, текст как часть визуального образа и проч. Кстати сказать, борьба с академизмом началась еще в XIX в. и тоже по поводу формы. Новаторы тех времен объявили ее ложноклассической, ибо она шла не от природы, а от наблюдений и копирования античных образцов. Разумеется, новаторы ХХ в. пошли гораздо дальше.

В. Татлин. Башня III Интернационала. Проект монументального памятника, посвященного 3-му Интернационалу. Строительство башни планировалось осуществить в Петрограде-Ленинграде, после победы революции 1917 года.
Тут бы вздохнуть: горе нам! Гениальная наивность примитивистов, эксперименты с формой и цветотенью, готовность принять обрывки действительности за ее целое, геометрические построения как игра пространственных отношений, наконец, конструирование картины вместо живописания – все это торжество художнического экстремизма. История искусства его оправдала, хотя неискушенный зритель по-прежнему недоумевает и даже пугается от напора этого хаоса.

Н. Удальцова. Ресторан, 1916.
Перечитав написанное, я заметила, что слова «перелом», «разрыв», «перерождение» накрепко связывают его. Каждое авангардное течение – это новизна через разрыв, перелом или перерождение. Авторы произведений уже получили статусов классиков, причем большинство – из числа рассерженных. Разучившись любить явь, они стали терзать форму с каким-то жестоким, инквизиторским любопытством: резать на части, дробить, вытягивать и обращать в колючие системы геометрических фигур. Поздний авангард в этом смысле примечателен. И все это, разумеется, из соображений эстетических, но результат получился и впрямь жутковатый. Нам в назидание – вот к чему приводит борьба с данностью природы ради формальных целей.
«Наш авангард» в ГРМ – это выставка-пунктир. Она предлагает цикл связанных между собой рассказов о русском искусстве начала ХХ века, историю интересную и одновременно драматическую. Если модернизм задался вопросом «что есть искусство?», то авангард его переиначил – «что есть не искусство?». «Черный квадрат» Малевича, пожалуй, ключевой знак этого вопрошания на почве русского искусства. Как вариант ответа на вопрос могу предложить утверждение Екатерины Деготь: «Авангард – это рискованная стратегия создания неискусства, которое тут же становится искусством.» Этот тезис она развивает в своем фундаментальном труде «Русское искусство ХХ века», где впервые в постсоветском искусствознании предпринимается попытка разделить русское искусство прошлого века на четыре проекта (заумный, идеологический, синтетический и концептуальный). Это очень оригинальный и в содержательном смысле состоятельный подход.
Несомненно, авангард – это залп радикализма по искусству. Вытерпеть его трудно, реакция настолько же радикальна. Если взять на себя решимость и настроить зрение, то воспримешь и авангард, и современное искусство, в какой-то части по крайней мере. А если нет, то и суда нет. Наступит время эпилогов. Для авангарда это время пока, правда, не наступило. Он все еще интригует и будоражит, и ждет окончательного ответа на поставленный самому себе вопрос – что есть не искусство? И неоскудевающий поток посетителей на выставку в Русском музее – живое тому подтверждение.
Е. Аккуш
Литература по теме:
4.Якимович А.К. На пороге двадцатого века. Беседы о проблемах искусства и культуры.
5.Якимович А.К. Экстремалы. Радикальные новаторы ХХ века.
Несомненно, авангард – это залп радикализма по искусству. Вытерпеть его трудно, реакция настолько же радикальна. Если взять на себя решимость и настроить зрение, то воспримешь и авангард, и современное искусство, в какой-то части по крайней мере. А если нет, то и суда нет. Наступит время эпилогов. Для авангарда это время пока, правда, не наступило. Он все еще интригует и будоражит, и ждет окончательного ответа на поставленный самому себе вопрос – что есть не искусство? И неоскудевающий поток посетителей на выставку в Русском музее – живое тому подтверждение.
Е. Аккуш
Литература по теме:
- Деготь Е.Ю. Русское искусство ХХ века.
- Маковский С.К. Силуэты русских художников.
4.Якимович А.К. На пороге двадцатого века. Беседы о проблемах искусства и культуры.
5.Якимович А.К. Экстремалы. Радикальные новаторы ХХ века.