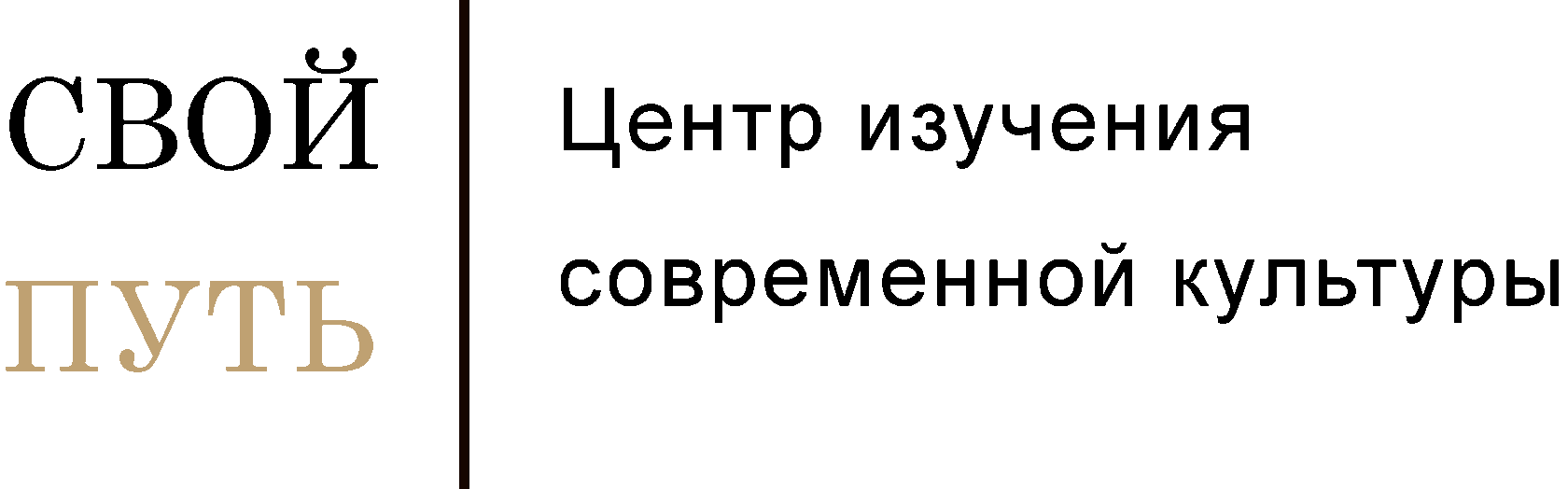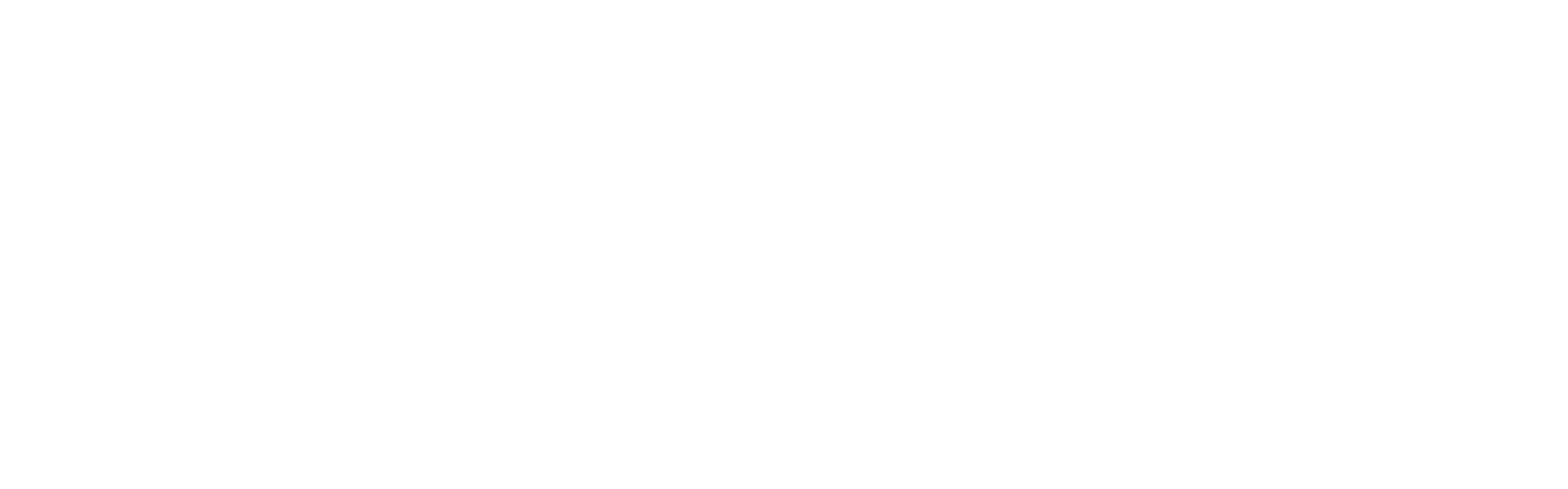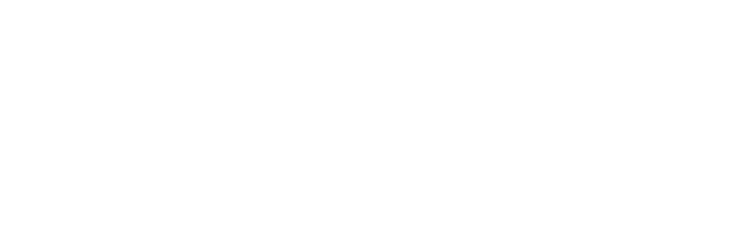
Информация о наборе в группу
Расписании мероприятий
Исследованиях
Расписании мероприятий
Исследованиях
Оставьте Ваш вопрос, мы ответим Вам в ближайшее время.
Искусство в квартире
Феномен квартирных выставок в СССР
Феномен квартирных выставок в СССР
Пишу под впечатлением от выставки РОСИЗО «Искусство за закрытыми дверями. Квартирные выставки 1960-80х». Логично и затейливо организованное пространство разделено на залы, в которых представлены наши нонконформисты в порядке появления. Начало, конечно, в лианозовском бараке Оскара Рабина, затем московские квартирники 70-х – зарождение концептуализма (Алексеев, Кизельватер, Монастырский, Соков). Реконструирована комната с мебелью и предметами советского интерьера. Здесь все знакомо с детства: скромная комната с ковром на стене, клекот бамбуковых штор в дверном проеме, взрослые посиделки допоздна с разговорами о высоком, зачитанные «Новый мир» и «Иностранка» с грязноватыми обрезами.
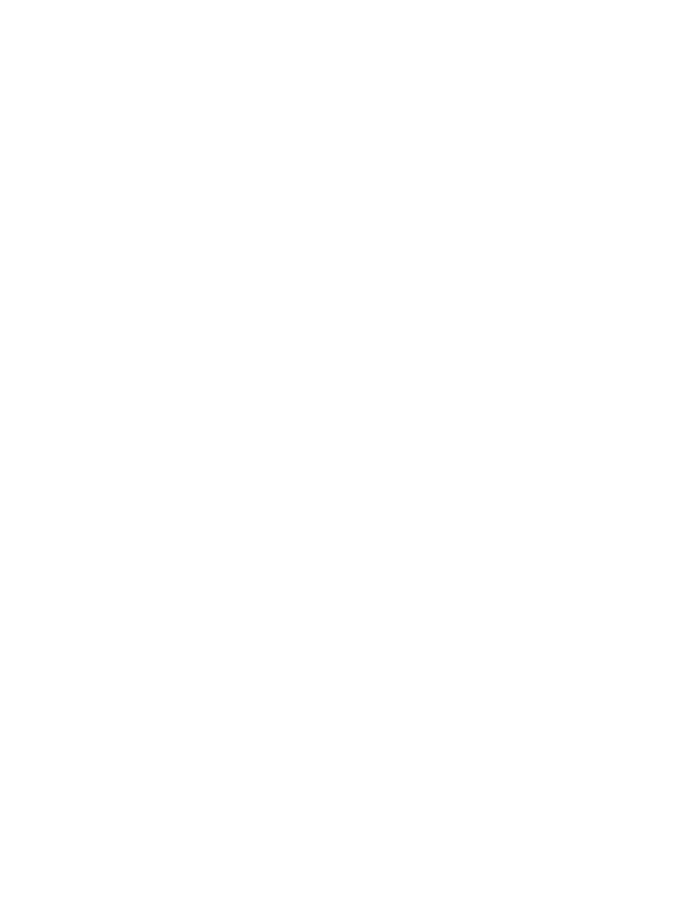
Оформление входа на выставку РОСИЗО, Петровиригский пер., д 7.
Выставка РОСИЗО удивительно атмосферна. С научной же точки зрения, есть вопросики. Заявлено исследование феномена квартирных выставок. Соответственно, ожидаю не только культурное погружение, но и анализ уникальной выставочной практики в советском неофициальном искусстве втор. пол. ХХ века. Кураторам здорово удалось описать феномен квартирника, со всеми деталями, но его суть как выставочной практики осталась не вполне проясненной. Как экспонирование арт-объектов в таком формате работало со зрителем? С каким? Какие задачи ставили перед собой организаторы квартирников? Как и на что они вообще жили в свободное от выставок время? Получился впечатляющий рассказ о художниках, по модели Дж. Вазари. Case study на заданную тему. Что ж – не родись сварливой! – продолжаю тему впечатлений от выставленного нонконформизма в заданном РОСИЗО формате.
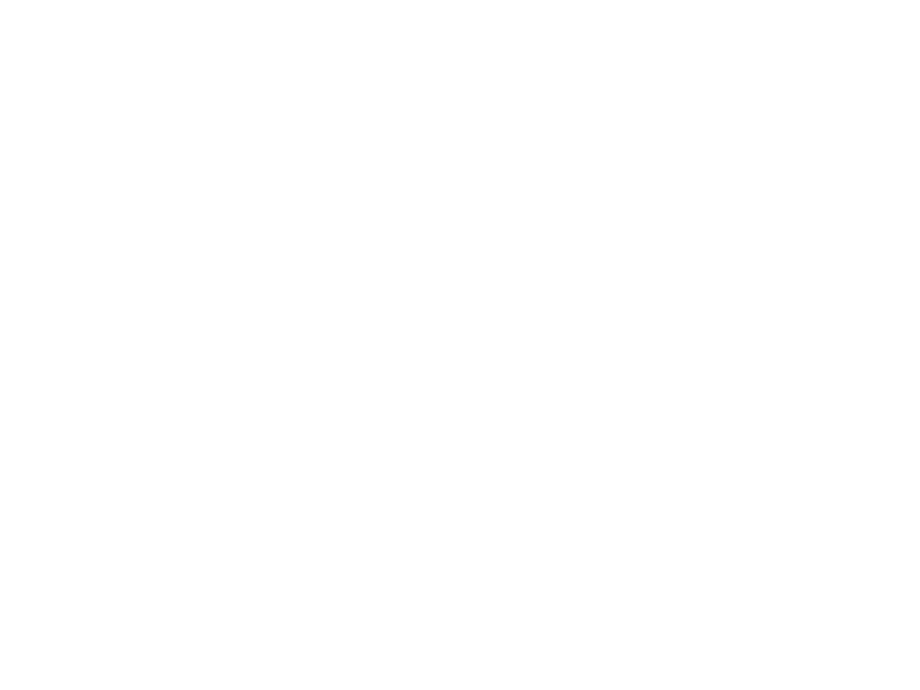
О. Рабин. Шурин дом, 1962.
Начало
В 1950х О. Рабин впервые открыл двери своего дома в Лианозово для посетителей выставки своих работ.
Творчество Рабина – изнанка советской жизни. Пластика Рабина отличается выраженной гротескностью. Мрачный шарж на советский город, который предстает живым существом – крыши и трубы изгибаются, словно живые организмы. Запущенный, покрытый депрессией и сажей город. Такая «чернуха», конечно, не попадала в официальные выставочные залы.
К Рабину в Лианозово потянулись художники, поэты (Сапгир, Холин, Некрасов) – появилась Лианозовская художественная группа, возник альманах «Синтаксис». Позднее этот феномен советской субкультуры назовут «Лианозовской школой» (а НЛО выпустит огромный тон о «неканонических классиках»), хотя школы как таковой с идейной или эстетической программой не возникло. Это была группа людей одной интонации (как сказал о них А. Битов), протянувшая до середины 1970х. Они просто общались, топили печку, читали стихи, говорили об искусстве. Время такое было – темное, доинтернетное.
В 1950х О. Рабин впервые открыл двери своего дома в Лианозово для посетителей выставки своих работ.
Творчество Рабина – изнанка советской жизни. Пластика Рабина отличается выраженной гротескностью. Мрачный шарж на советский город, который предстает живым существом – крыши и трубы изгибаются, словно живые организмы. Запущенный, покрытый депрессией и сажей город. Такая «чернуха», конечно, не попадала в официальные выставочные залы.
К Рабину в Лианозово потянулись художники, поэты (Сапгир, Холин, Некрасов) – появилась Лианозовская художественная группа, возник альманах «Синтаксис». Позднее этот феномен советской субкультуры назовут «Лианозовской школой» (а НЛО выпустит огромный тон о «неканонических классиках»), хотя школы как таковой с идейной или эстетической программой не возникло. Это была группа людей одной интонации (как сказал о них А. Битов), протянувшая до середины 1970х. Они просто общались, топили печку, читали стихи, говорили об искусстве. Время такое было – темное, доинтернетное.
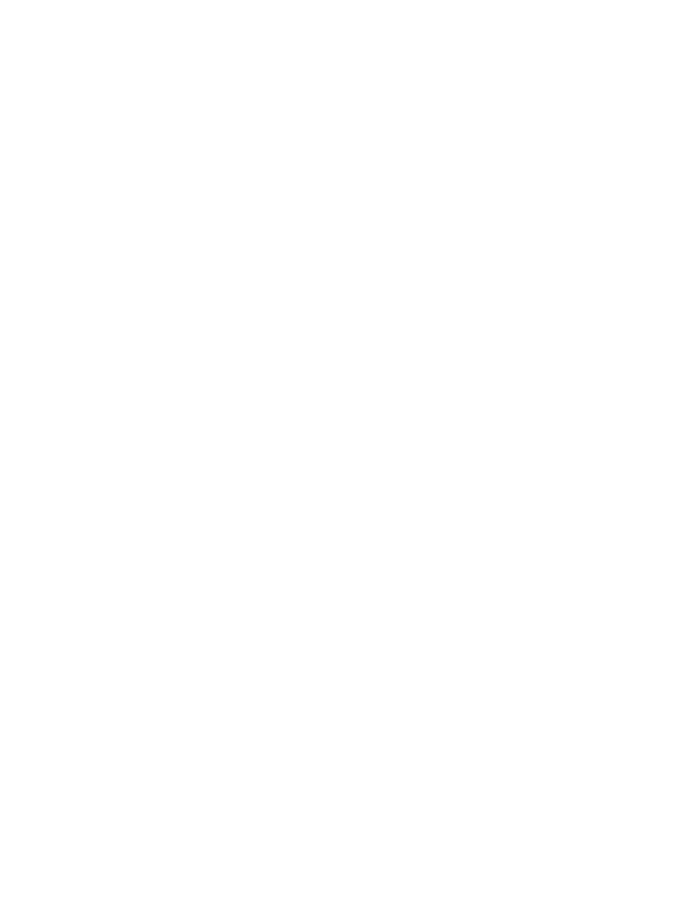
О. Рабин. Вечерний чай, №183, 1963.
Оскар Рабин – лидер Лианозовской группы, классик нонконформизма, шестидесятник. Остался в области фигуративной живописи. И тем не менее творчество Рабина совершенно противоположно так называемому единому творческому методу, который сложился в официальном искусстве. Метод подразумевал единство содержания и формы, которые должны служить делу прославления существующего строя во всех его проявлениях. Это касалось прежде всего темы, но также художественного стиля и жанров.
У лианозовцев привычные вещи стали символами неустроенности мира. Ценностная горизонталь выстроена. Реальность взята из обыденности – дом, стол, посуда, рубль, паспорт, рыбины. Альтернативный кружок – центр формирования альтернативных культурных смыслов, выросших из ярких личностей.
У лианозовцев привычные вещи стали символами неустроенности мира. Ценностная горизонталь выстроена. Реальность взята из обыденности – дом, стол, посуда, рубль, паспорт, рыбины. Альтернативный кружок – центр формирования альтернативных культурных смыслов, выросших из ярких личностей.
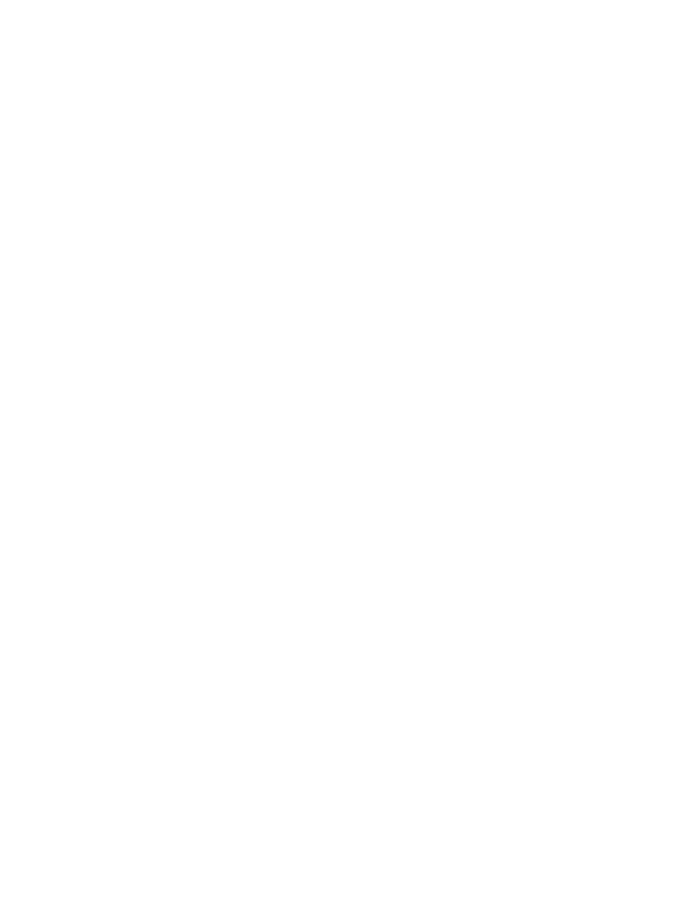
Афиша при входе на выставку.
Так сложилось, что советское официальное искусство генетически было связано с двумя художественными школами дореволюционного периода. Первая была родственна направлению, которое возникло в середине XIX века и которое вслед за французским художником Густавом Курбе принято называть реализмом. В русской живописи второй половины XIX века это направление было представлено двумя крупными художественными объединениями — передвижниками и Союзом русских художников. Вторая дореволюционная художественная школа была связана с другим направлением, антиподом реализма — академизмом. Если реализм отличает стремление к объективному отображению действительности и социальная проблематика, то академизму были присущи идеализация натуры, тщательная проработка деталей, ориентир на античное искусство.
Эти два художественных направления после создания в 1931 году Союза художников СССР стали основополагающими для главного стиля Страны Советов, который был назван советским реализмом. В довоенный период сложилась система критериев оценки работ художников и закрепились определенные каноны, условно говоря, «правильной» советской живописи, которая соответствовала утвержденным властью идеологическим установкам. Большое значение отводилось не только художественным особенностям картины, но ее социальной значимости.
Эти два художественных направления после создания в 1931 году Союза художников СССР стали основополагающими для главного стиля Страны Советов, который был назван советским реализмом. В довоенный период сложилась система критериев оценки работ художников и закрепились определенные каноны, условно говоря, «правильной» советской живописи, которая соответствовала утвержденным властью идеологическим установкам. Большое значение отводилось не только художественным особенностям картины, но ее социальной значимости.
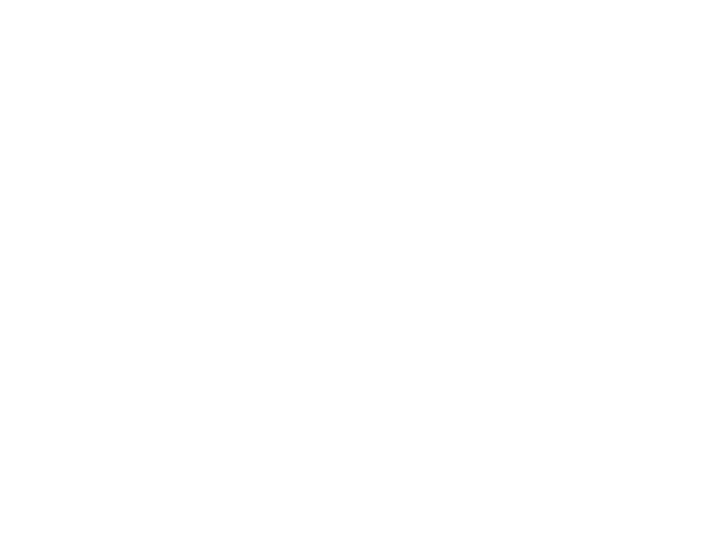
Портрет Генриха Сапгира в исполнении Виктора Пивоварова (илюстрация к авторскому тексту Пивоварова, "Серые тетради").
На станции Лианозово по Савеловскому направлению были другие настроения.
Тут с поезда сойдя, казалось, только шаг
забор? Нет, здесь описывали круг
автобусы – и дальше был барак.
Охристая стена – в такую далину…
Стежком пройдя снежком и подойдя к окну
заглядывал как рыба в глубину
Там в солнце сдвоено: какая-то доска
Блеснул очками, кажется, Оскар
Качнулась комната как некий батискаф
<…>
Г. Сапгир
Среди членов группы были художники Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Евгений Кропивницкий и его сын Лев Кропивницкий.
Тут с поезда сойдя, казалось, только шаг
забор? Нет, здесь описывали круг
автобусы – и дальше был барак.
Охристая стена – в такую далину…
Стежком пройдя снежком и подойдя к окну
заглядывал как рыба в глубину
Там в солнце сдвоено: какая-то доска
Блеснул очками, кажется, Оскар
Качнулась комната как некий батискаф
<…>
Г. Сапгир
Среди членов группы были художники Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Евгений Кропивницкий и его сын Лев Кропивницкий.
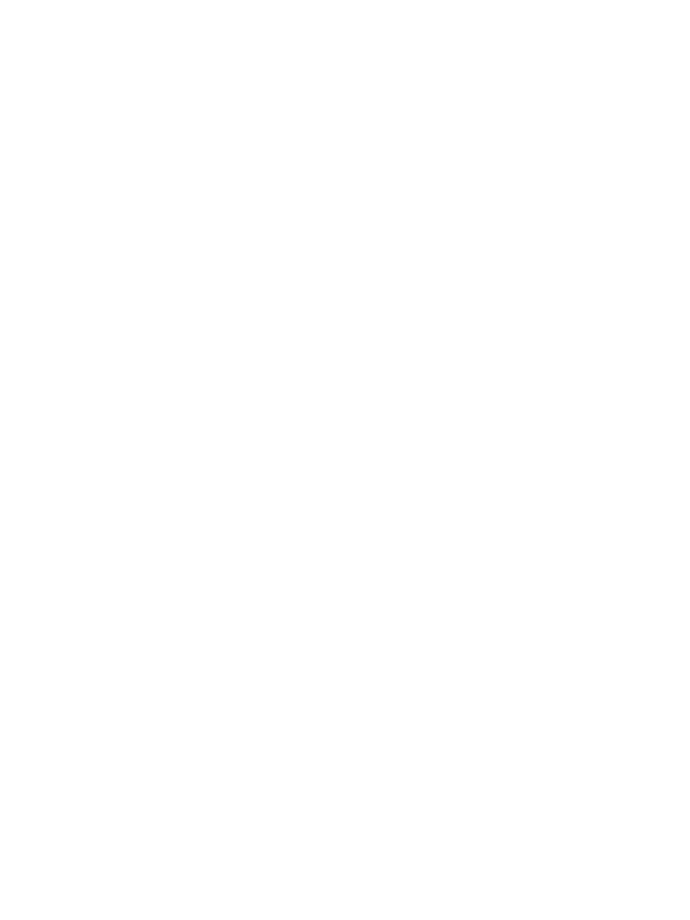
Группа С3. Рекламный плакат С3, 1980.
Весной 1957 года Оскар Рабин принял участие в III выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области, где участвовали две его работы. В том же 1957 он был участником VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, там он познакомился с художниками Олегом Прокофьевым и Олегом Целковым и стал лауреатом конкурса за представленный на выставке натюрморт. Его произведения — как и произведения других членов Лианозовской группы — активно покупали западные коллекционеры.
Рабин зарабатывал живописью официально, получив место художника-оформителя на комбинате декоративно-прикладного искусства. А каждое воскресенье в его жилище проходили публичные выставки, где бывали зарубежные дипломаты, журналисты, а также советские коллекционеры, ценители авангарда и нонконформизма.
Продолжение
Следующие залы выставки – про эпоху 1970-80х, время первых, тоже квартирных, галерей. Художники устали принимать посетителей у себя дома, появились протогалереи. Никита Алексеев придумал знаменитый APTART. Белого куба как выставочного пространства еще не было и в помине.
Рабин зарабатывал живописью официально, получив место художника-оформителя на комбинате декоративно-прикладного искусства. А каждое воскресенье в его жилище проходили публичные выставки, где бывали зарубежные дипломаты, журналисты, а также советские коллекционеры, ценители авангарда и нонконформизма.
Продолжение
Следующие залы выставки – про эпоху 1970-80х, время первых, тоже квартирных, галерей. Художники устали принимать посетителей у себя дома, появились протогалереи. Никита Алексеев придумал знаменитый APTART. Белого куба как выставочного пространства еще не было и в помине.
О продажах не думали, рынка для такого искусства не было. Главное – принадлежность к кругу близких по духу людей. Круг составляли не борцы за идею, как авангардисты, а подпольные альтернативщики, оппозиция художественному и идейному мейнстриму.
Метафизические наследники лианозовской школы – Дм. Краснопевцев, Вл. Янкилевский. Шварцман. Янкилевский начал московский концептуализм, подхватив итальянские идеи Дж. Де Кирико. Иератическая живопись Шварцмана (знаменитые, иконоподобные иературы) – что-то среднее между иероглифом и живописным абстрактным искусством. Вообще московский концептуализм – это и литераторы, помимо визуального искусства. Возник Южинский кружок под творческим руководством Юрия Мамлеева. Кружок собирался с 1974 г. в Южинском переулке дома у Мамлеева, там увлекались литературой, философией, мистицизмом и эзотерикой (синтезирующий фактор). Г. Джемаль и А. Дугин вышли из этого кружка, а также писатель А. Проханов (роман «Господин Гексоген). Алексей Смирнов (фон Раух), автор отличного детективного романа «Доска Дионисия» (роман-житие в десяти клеймах) – тоже оттуда. А потом были Кабаков и его круг Сретенского бульвара (самый громкий голос в многоголосье позднесоветского неофициального искусства), Винокуров, Пригов – несть им числа. Это действительно целое культурное явление, которое вполне состоялось.
Метафизические наследники лианозовской школы – Дм. Краснопевцев, Вл. Янкилевский. Шварцман. Янкилевский начал московский концептуализм, подхватив итальянские идеи Дж. Де Кирико. Иератическая живопись Шварцмана (знаменитые, иконоподобные иературы) – что-то среднее между иероглифом и живописным абстрактным искусством. Вообще московский концептуализм – это и литераторы, помимо визуального искусства. Возник Южинский кружок под творческим руководством Юрия Мамлеева. Кружок собирался с 1974 г. в Южинском переулке дома у Мамлеева, там увлекались литературой, философией, мистицизмом и эзотерикой (синтезирующий фактор). Г. Джемаль и А. Дугин вышли из этого кружка, а также писатель А. Проханов (роман «Господин Гексоген). Алексей Смирнов (фон Раух), автор отличного детективного романа «Доска Дионисия» (роман-житие в десяти клеймах) – тоже оттуда. А потом были Кабаков и его круг Сретенского бульвара (самый громкий голос в многоголосье позднесоветского неофициального искусства), Винокуров, Пригов – несть им числа. Это действительно целое культурное явление, которое вполне состоялось.
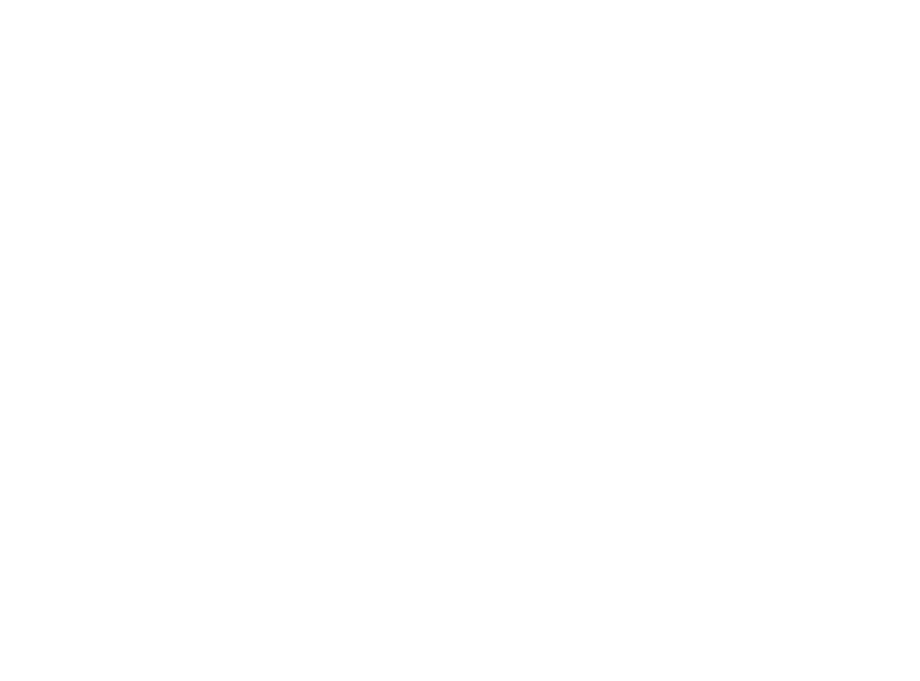
В. Пивоваров. Холин и его пес Тунгуз.
У ребят, конечно, не было благоприятных условий для творчества. Но, вероятно, именно теснота их положения и позволила феномену нонконформизма состоятся, а квартирники форсировали его развитие. Жизнь сама – неблагоприятное условие. Всякое творчество – это перебарыванье, перемалыванье жизни, как говорила Цветаева. И самые неблагоприятные условия оказались самой продуктивной почвой для нового, как в молитве мореплавателя: «Пошли мне, Господи, берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»
Странное в РОСИЗО выбрали название для выставки - «Искусство за закрытыми дверями». Двери-то как раз были открыты, к ним (от них?) вели многочисленные следы бурной жизни и мелких шалостей. Как все-таки это «второе пришествие» авангарда (или поставангард) похоже на первое. Такие же союзы, синтез искусств. А поэт Игорь Холин – это же реинкарнация Хармса (правда, мрачноватая и несколько глумливая):
Лицо — икона. Сутул.
Упрям, как мул.
Ум — бритва.
Разговор с ним — битва.
***
Обозвала его заразой,
и он, как зверь, за эту фразу
подбил ей сразу оба глаза.
Она простила, но не сразу.
***
Странное в РОСИЗО выбрали название для выставки - «Искусство за закрытыми дверями». Двери-то как раз были открыты, к ним (от них?) вели многочисленные следы бурной жизни и мелких шалостей. Как все-таки это «второе пришествие» авангарда (или поставангард) похоже на первое. Такие же союзы, синтез искусств. А поэт Игорь Холин – это же реинкарнация Хармса (правда, мрачноватая и несколько глумливая):
Лицо — икона. Сутул.
Упрям, как мул.
Ум — бритва.
Разговор с ним — битва.
***
Обозвала его заразой,
и он, как зверь, за эту фразу
подбил ей сразу оба глаза.
Она простила, но не сразу.
***
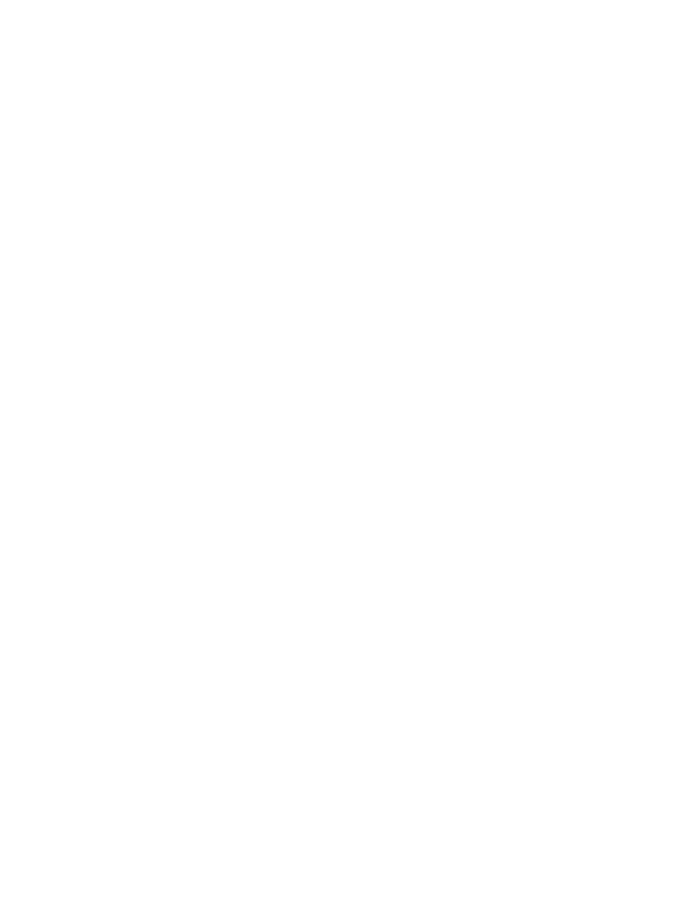
Л. Соков. Угол зрения, 1976.
Возвращаясь к мысли о связи нонконформизма с авангардом, хочется отметить их общие черты. Активные эксперименты с жанрами и фактурой. Зрителя нужно повергнуть в шок! Похоже на современное искусство? Само искусство нонконформистов – зачастую непонятное, полное парадоксов, допускающее множественность значений. И еще – постоянный поиск новизны. Ну, и конечно, балаган, буффонада, игра. Ведь, по Конституции СССР, каждый человек имеет право выпучить глаза, как остроумно заметил еще Веничка Ерофеев 😊
«Дайте перо мне и ручку! Хочу ультиматум писать!»
Эта черта, кстати, благополучно перекочевала в искусство постмодерна.
«Дайте перо мне и ручку! Хочу ультиматум писать!»
Эта черта, кстати, благополучно перекочевала в искусство постмодерна.
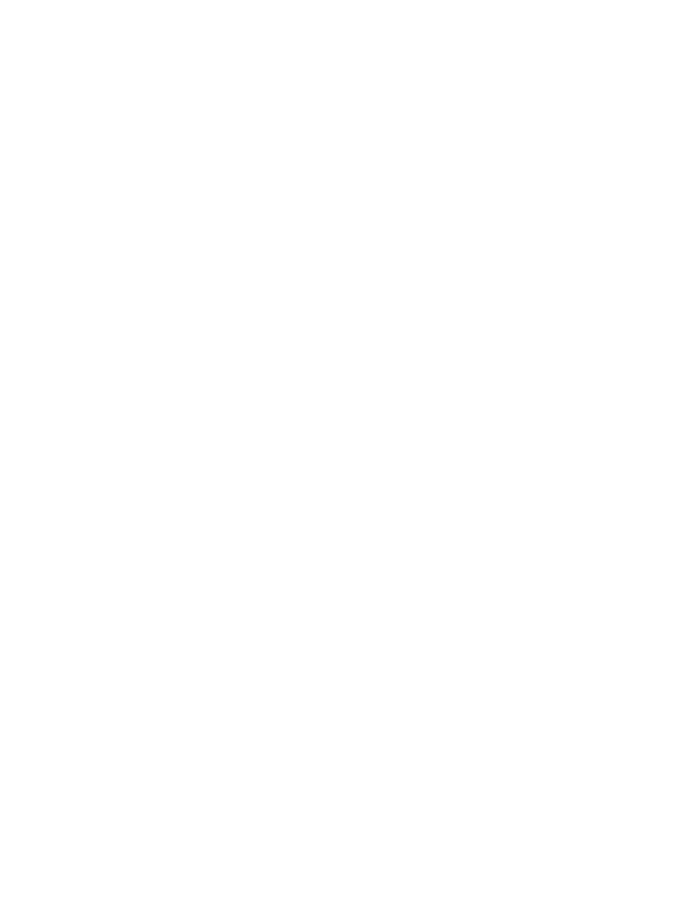
Н. Овчинников. Ангел, 1988.
Итого
Закончить рассказ о нонконформизме невозможно. Главное – и так ясно.
Если бы эти художники умещались за пределами своих подрамников, если бы сам их мир не был выше и больше людей, его создавших, то закончить мой рассказ было бы легко. А про выставку РОСИЗО, квартирную по своей сути, скажу еще немного. Она дала мне возможность заглянуть в ушедший, но по-прежнему живой мир, где царила чайная идиллия за столом, люди общались оффлайн, без суеты и пустоты. Важно, что они при этом не впадали в серьезность, как в маразм. Это был смешной и умный вихрь творческих порывов и фарса. Короче, выставка РОСИЗО удалась в смысле своей иммерсивности и ярких эмоций для зрителя. Миф у них вполне ожил в фотографиях и антураже – торшер с бахромой, весь в наклейках «Холодильник» - реди-мейд Звоздочетова. На кухонном столе вместе с чашками - магнитофон и кассеты с голосами художников.
Возникло радостное чувство: как хорошо, что в мире столько разных миров и можно жить, переходя из одного в другой!
Закончить рассказ о нонконформизме невозможно. Главное – и так ясно.
Если бы эти художники умещались за пределами своих подрамников, если бы сам их мир не был выше и больше людей, его создавших, то закончить мой рассказ было бы легко. А про выставку РОСИЗО, квартирную по своей сути, скажу еще немного. Она дала мне возможность заглянуть в ушедший, но по-прежнему живой мир, где царила чайная идиллия за столом, люди общались оффлайн, без суеты и пустоты. Важно, что они при этом не впадали в серьезность, как в маразм. Это был смешной и умный вихрь творческих порывов и фарса. Короче, выставка РОСИЗО удалась в смысле своей иммерсивности и ярких эмоций для зрителя. Миф у них вполне ожил в фотографиях и антураже – торшер с бахромой, весь в наклейках «Холодильник» - реди-мейд Звоздочетова. На кухонном столе вместе с чашками - магнитофон и кассеты с голосами художников.
Возникло радостное чувство: как хорошо, что в мире столько разных миров и можно жить, переходя из одного в другой!